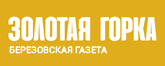Я буду сразу называть её «фазендой». Почему — об этом чуть позже. Сначала о том, что это такое.
Это была одноэтажная бревенчатая больница по улице Трудовой. Когда-то, в 60-х—70-х, в этом здании был ведомственный детский садик от «Сельхозтехники». В доме, который стоит теперь на этом месте, до сих пор находят в огородной земле остатки детских игрушек. А когда по улице Матросова построили новый детский сад, этот вскоре ликвидировали, а здание взяла в аренду районная больница. Вначале там размещалось наркологическое отделение. Алкоголиков лечили и именовали эту богадельню более расхожей в народе аббревиатурой — ЛТП. А в сентябре 1986 года в этом здании открыли неврологическое отделение. Последние годы его существования, на рубеже 80-х — 90-х, я со своими головными болями лежал там месяцами, став одним из самых постоянных пациентов.
А почему «фазенда»? В то время на наше советское ЦТ проникли одни из первых разведчиков западной кинокультуры — южноамериканские мыльные оперы. И первой засланной из Бразилии «казачкой» стала культовая «Рабыня Изаура», появившаяся на экране в 1988-89 годах. Каждый вечер, забыв обо всём, пациенты отделения приникали к экрану больничного телевизора и, затаив дыхание, следили за злоключениями рабыни-квартеронки Изауры, благородного дона Алваро, красавца-злодея Леонсио и доброй кухарки Жануарии.
Под впечатлением сериала сами больные и прозвали в шутку неврологическое отделение «фазендой», ведь место действия фильма разворачивалось в основном на фазенде рабовладельца Леонсио Алмейда. Когда больного выписывали и давали ему на руки выписку, это, значит, по терминологии фильма, «вольную давали». И Изаура у нас своя была, и другие герои... Но о них позже.
С годами, конечно, название «фазенда» вышло из употребления и под-забылось, да и «Изауру» на телеэкране сменили бесконечно плачущие «Богатые...» с Марианной и Луисом-Альберто в авангарде. Только те, кто придумал это название для отделения, по-прежнему его помнили. Зато более прочное наследие от «Рабыни Изауры» навсегда осталось в закрепившемся по всей России шутливом названии дачного участка — фазенда.
К старенькому бревенчатому зданию был вплотную пристроен дощатый сарай, забитый старыми койками и прочей рухлядью. Маленький дворик «фазенды» был проходным — на Трудовую улицу из него можно было попасть через ветхие деревянные воротца, а на соседнюю Спортивную улицу вели длинные деревянные трапы — без них широкую придорожную канаву, вечно полную воды, невозможно пересечь.
Посторонний человек, впервые попавший на «фазенду», был бы крайне удивлён домашностью обстановки, царившей там. С первого взгляда даже не создавалось впечатления, что это больница, скорее она напоминала уютное общежитие. Я до сих пор, как и у «избушки на курьих ножках», помню всю внутреннюю планировку и обстановку помещения. Низенькое, в две ступеньки, крылечко под навесом. Маленькие сенцы, слева — вход в процедурный кабинет. За второй дверью — общая комната, откуда вели двери в ординаторскую и палаты для больных. Простенько, по-старомодному обставленная, комната служила одновременно и кухней, и обеденным залом, и «телезалом», и местом для вечерних посиделок. Дощатый пол, крашенные жёлтой краской стены, потолок тоже по старинке подшит половой плашкой. Даже электропроводка местами шла по вбитым в стены изоляторам – такое сейчас такое только в кино можно увидеть. У входа — умывальник и деревянная вешалка для одежды. У правой стены — кухонный стол и старинный, из цельного дерева, комод с посудой, врезанная в одну из стен круглая печка, обшитая железом. Посредине коридора стояли обеденные столы, обитые серой клеёнкой. У окна на тумбочке — громоздкий цветной телевизор. И всё это выглядело очень уютно.
Была ординаторская и три палаты для больных. Всего — двадцать койкомест. Самая большая палата была на одиннадцать мест, и именно туда я практически каждый раз и попадал. На удивление, всегда на одну и ту же дальнюю койку у окна — самое «козырное» место. Старые клёны в палисаднике укрывали собою окна фасада, под окнами боковой стены тоже росли молодые тополя, поэтому даже в летний зной мы в палатах не страдали от жары. Можно было при желании и ставни закрыть снаружи.
Я должен сказать здесь, что «фазенда» была мне очень близка. Без преувеличений — я её просто любил. Это, может быть, кому-то трудно будет понять, особенно если видеть в ней только больницу. Но я смотрю на неё через другую призму - очень много добрых воспоминаний оставил мне этот старенький деревянный домик. Таких, которые остаются в памяти, в том числе личных. И сейчас, много лет спустя, вспоминая её, я до сих пор вижу всё так чётко — любую деталь — словно только час назад оттуда пришёл.
Самое главное, конечно — это люди, с которыми меня там судьба сводила. Большей частью из деревень — колхозов и совхозов нашего района. Надорвавшие спины трактористы и комбайнёры, на всю жизнь простудившие себе поясницы шофера, заработавшие остеохондроз и гипертонию скотницы, доярки и кладовщицы. Словом, обыкновенные, простые работяги, чья жизнь — это труд, а не бесконечные развлечения. Люди, которые, собственно, при любом государственном строе держат всю страну на своём горбу. Люди, которые кормят всех: политиков, пролетариев, интеллигентов, люмпенов и прочих. Сами же к пенсии наживают себе лишь направление в больницу да прострел в поясницу. Ну, разве что ещё в качестве бесплатного бонуса заслуживают сегодня, в викистатьях Интернета, уничижительную характеристику «представителей наименее ресурсных социальных групп».
Кого-то из моих «фазендовских» друзей и знакомых сегодня уже и в живых нет, остальные успели состариться, всё-таки четверть века минуло. И нечаянных встреч с ними, и случайно долетающих до меня известий о них становится всё меньше. Вообще, самих людей такого склада — из той эпохи — становится меньше. Иные времена, иные поколения...
* * *
Никак не менее пятидесяти процентов контингента пациентов «фазенды» составляли его постоянное ядро. То есть, больные были большей частью одни и те же, то и дело туда вновь попадавшие. Почему? Потому что такие болезни не лечатся, только заглушаются на время. Вон, Саша Тютрин, к примеру, с острой формой остеохондроза. При мне мужика на ноги поставили, спину ему выпрямили. Выписали, уехал домой, в деревню. На вторые сутки... обратно привозят, опять кривого! Ну, ё моё! Неловко повернулся и — готово! — снова «ломик сглотил», бедный мужик.
Так что не было ни разу, чтобы, попав на очередную госпитализацию, я не встретил на «фазенде» ни одного из здешних «прописанных». По несколько человек сразу, зайдёшь в палату — ба, знакомые всё лица! Ну, правда, почти как к себе домой пришёл!
Впервые на «фазенду» я попал в 1988-м... Самая весна была! Майский ветерок бережно обдувал молодые, нежные ещё листочки клёнов и тополей, солнышко резвилось на чистом от облаков небе, с улицы Трудовой доносило из чьёго-то окна новые песни популярной тогда группы «Сталкер». Каникулы в школе скоро, живи да радуйся! А я в больницу загремел! Да ещё в какую-то незнакомую.
Но прошло, наверное, всего дня четыре. И я «фазенду» уже полюбил.
Медперсонал неврологического отделения был невелик — лечащий врач и пять медсестёр.
Лечащий врач — невропатолог Олимпиада Фёдоровна Новикова. Года четыре она меня лечила, в общей сложности. Потом, к сожалению, уехала из поселка. Последний раз я видел Олимпиаду Фёдоровну в ноябре 1993 года, в областной неврологии. Я там лежал, а она по своим делам зашла. Хорошая была встреча! А вскоре после этого узнал о её безвременной кончине.
Поскольку попадал я на «фазенду» каждый год, да не по разу, Олимпиада Фёдоровна, приходя на обход и заходя в палату, добродушно, почти по-матерински, обращалась ко мне, иногда в третьем лице:
— Ну, как он тут, наш Евгений, этот наш жук?
Точно, жук! Лежу целыми днями, скоро уже одно место плоским станет. Ну, а что поделаешь, если башка постоянно болит?
Когда Олимпиада Фёдоровна уехала, то взвалить на себя неврологическое отделение пришлось одному из наших терапевтов — Ботагоз Кабиевне Бекишевой. На два фронта она работала: и в поликлинике, и с нами, невротиками...
Людмила Петровна Тарасова. Приветливая и располагающая к себе женщина. Старшая сестра по должности, по возрасту среди других сестёр она была, кажется, самой молодой. И она — единственная из медперсонала «фазенды», которую сейчас иногда встречаю. Ныне она уже на пенсии. А тогда я, мальчишка ещё, и думать не мог, что годы спустя буду учить в школе её внука.
Медсестра Нина Петровна Положкова. Каким добрым и замечательным человеком она была! К таким привязываешься сразу. Нина Петровна относилась к той категории медработников, которые заслуживают всеобщую симпатию среди пациентов. Они не отталкивают от себя неприветливостью или вредностью характера, их нельзя упрекнуть в равнодушии или пренебрежении к больным. Они притягивают к себе искренней — не по обязанности — отзывчивостью, добротой и даже лаской. Последнего не преувеличиваю: чаще всего это доставалось именно мне, потому наверное, что женщинами такого возраста, как Нина Петровна, я, в свои неполные семнадцать лет воспринимался как «сынок». Да и в последующие годы среди контингента больных «фазенды» я, да ещё Коля Бородин неизменно оставались самыми молодыми.
Клавдия Иосифовна Михайлова и Зоя Михайловна Григорьева. Их больные тоже любили. Обе они были уже предпенсионного возраста. И обе, как ни странно, жили в далеко от поселка, в селе Ёлошном, а работали медсёстрами здесь! Это по тридцать пять километров туда и обратно каждые двое суток наматывать!..
«Ничего, нормально!..» — с улыбкой пожимала плечами Клавдия Иосифовна в ответ на моё удивление.
Мне нравились обе медсестры. Зоя Михайловна была, правда, немного построже, но не сильно, в меру. В очередной раз оказываясь на «фазенде», я всякий раз очень рад был их снова видеть.
Клавдию Иосифовну я, спустя многие годы, неожиданно встретил в нашей поликлинике. Я уж и не чаял видеть её в живых, столько-то лет спустя! Она высохла, стала меньше ростом. Но старухой назвать её не поворачивается язык: подвижная, живая, и лицо не такое уж и старческое. Я сразу её узнал. Думал, она меня не признает: столько лет позади, да и я сильно изменился. Но нет, узнала! Я очень рад, что она ещё жива и, хотя бы относительно, здорова. А вот Зоя Михайловна, сказала мне Клавдия Иосифовна, ушла из жизни.
Кузнецова Вера Тимофеевна - в посёлке помнят многие. В те годы она сама уже сильно болела, и поэтому я нечасто видел её на работе. Сейчас, к сожалению, её тоже уже нет.
Санитарка, она же и сестра-хозяйка на маленькой «фазенде» работала всего одна. Звали её Любовь Михайловна, чаще просто Люба. Лет пятьдесят ей было. Мы с ней даже, можно сказать, подружились, потому что как-то сразу прониклись взаимной симпатией.
— Ну, здравствуй, Женя! — всякий раз приветствовала она меня. — Опять к нам? Когда же ты выздоровеешь-то у нас, парнишка? Ну, проходи давай. Вовремя ты, как раз скоро обед привезут. Вон и кровать твоя любимая свободная, словно ждёт тебя!
Медперсонал тоже встречал меня всякий раз столь же приветливо.
* * *
С хорошими же мужиками я попал в палату во время первого своего появления здесь! Влился в компанию сразу. Вообще, как-то так повелось, что с людьми старшего поколения я всегда в лёгкую находил общий язык.
Обо всех, конечно, не напишешь. На крайней койке, у самой двери, лежал пожилой мужчина, чем-то отдалённо напомнивший мне актёра Олега Анофриева. Филонов была его фамилия. Он только начал отходить после тяжёлого инсульта. С трудом вставал. Но вскоре стал даже выходить на улицу. Он медленно, как мог, восстанавливал нарушенную речь. В руках его я часто видел зелёную ученическую тетрадку, в которую он заглядывал и что-то шептал про себя.
— Это мне врач написала, — объяснил он как-то мне. — Олим... па... Олим... не могу сказать! Имя не могу сказать. Слова, чтобы я тре... трен... говорил... учился. Пробую. Н-не все слова могу сказать. Вот, имя не могу. Ол... лим... — И он снова начинал пробовать.
Вскоре Филонова выписали с заметным улучшением. А в день моей выписки... привезли снова, почти в беспамятстве. Случился второй инсульт, ещё хуже.
Саша Зубов из села Суерка, лежал с острым остеохондрозом. Капитально мужика скрючило: он и ходить-то почти не мог, еле поворачивался в постели с боку на бок. Вставал с кровати по сантиметру, закусив губу и порой глухо вскрикивая от боли: «Ох, грёбаная ты тётя Мотя!..»
Дед Илющенко. Грузный краснолицый старикан лет шестидесяти. Глухой был, ходил с наушником в ухе. Носил синий пиджак, шляпу и курил сигареты с мундштуком. Трость в руке довершала эту его сельскую экстравагантность. Ложась отдыхать, он снимал своё искусственное ухо, брал в руки газету и — живу сам в себе!.. Особенно я завидовал деду Илющенко ночью, когда мужики начинали храпеть. Ему-то что иерихонские трубы, что выстрел из «Авроры» — всё было бы до фонаря! Но, когда он надевал наушник и снова оказывался в мире звуков, то балагур был не хуже любого. И интересно было его послушать. «...Ядрить её мать!» — приговаривал он после каждой третьей сказанной им фразы. Два разных человека — весельчак Саша Зубов и степенный дед Илющенко — а собеседниками оказались идеальными. Как в теннис играли… Один всё тётю Мотю поминал, а другой — её ядрёну матушку. Слушать обоих — это было не оторваться.
Виктор Чагочкин из Балакуля. Замечательный мужик! Никогда его не забуду! Один из моих лучших «фазендовских» друзей, одновременно с которым я попадал туда не единожды и с которым неоднократно виделся все последующие годы. Вообще-то, по-настоящему его звали Виталий, но он — видно, по жизни у него так сложилось, — не менее охотно откликался на имя Виктор. Для меня же, семнадцатилетнего пацана, он тогда и вовсе был дядя Витя.
Сколько лет я его знаю — этот человек никогда не унывал! Несмотря на болезнь, которая к оптимизму вовсе не располагала. Что-то в нём, наверное, на всю жизнь осталось от мальчишки. И навсегда мне врезалась в память его широкая, многозубая улыбка на прямом, иссечённом редкими морщинами, по-крестьянски красивом лице.
Его закадычным больничным приятелем был Носов - его я знал только по фамилии. Уже старик, возрастом за семьдесят, он, однако, в тот год был ещё довольно бодрым, а потом резко сдал. Как и многие старики, которых старость избавила хотя бы от лысины, Носов зачёсывал назад длинный, с проседью, чуб, который, когда он наклонялся, всегда норовил свалиться ему на лоб.
Эти двое постоянно подшучивали друг над другом. Дня без этого не проходило. Носов, иезуитски посмеиваясь, то и дело подкладывал в постель Чагочкину то пустую бутылку или стакан, чтобы тот потом смаху на них уселся. Виктор не оставался в долгу: частенько в постели Носова оказывалась мухобойка, или у него вдруг пропадали тапочки, и он, матерясь по адресу Чагочкина, плёлся их искать. В конце концов, каждый из них, возвращаясь после отлучки в палату, уже привычно проводил манипуляции, напоминавшие некую игру «найди подлянку» — прежде чем лечь на кровать, тщательно прощупывал постель, косясь на своего приятеля и радостно показывая ему зубы, если поиски увенчивались успехом.
Сюжет одной шутки имел место в четыре часа утра. Чагочкин поднялся до ветру. Инфраструктурное сооружение с буквами «Мэ и Жо» у нас было на улице. По пути подойдя к спящему Носову и воровато оглянувшись («мимо носовской кровати я без шуток не хожу»), Виктор начал его трясти.
— Носов! А, Носов!
— Чего тебе?! — схватившись с подушки, вытаращил тот дикие со сна глаза из-под спутанного чуба.
— Пошли в сортир!
В романе Г. Горпожакса «Джин Грин...» говорится о подобной ночной армейской игре «сходи к «джону», распространённой среди солдат американских ВС («джон» на жаргоне — туалет). Носов об этой игре явно не читал, потому как рявкнул бешеное, налитое яростью разбуженного на самом интересном месте человека:
— Иди ты …!!!
Дядя Витя, торжествующе похохатывая, вышел на улицу. Вернувшись через минуту и проходя мимо носовской кровати, снова не удержался:
— Носов! А, Носов! Может, сходишь всё-таки?
Не помню, что Носов ответил. И потом, когда Чагочкин уже снова беззаботно посапывал, окутавшись крепким предутренним сном, Носов ещё с четверть часа кряхтел, ворочаясь с боку на бок, и с его кровати доносилось приглушённое: «... твою мать!..», и ещё что-то...
Под стать Носову был дед Иван Падерин, с которым я лежал три года спустя. Маленький, щуплый, желтолицый, и, хотя ему было только пятьдесят семь, выглядел лет на десять старше. Ну, комик был! Как выдаст что-нибудь — вся палата со смеху загибается. Чагочкин, в очередной раз лежавший тогда, сразу почувствовал родственную душу. Донимавший четырьмя годами раньше Носова, он теперь переключился на деда Ивана.
— Эх, Носова бы на тебя напустить сейчас!.. — мечтательно сообщал он деду Ивану. — Дал бы он тебе шороху.
Дед Иван и вправду был неуёмный приколист. Хорошо таким людям, как он: они не успевают задумываться о плохом и вешать нос. Им не до этого, им некогда! — они постоянно ищут глазами, что бы такого, сделать плохого! Слово «плохого» в хорошем смысле.
Володя Симаков, наш «фазендовский» дон Леонсио, в тот год отрастил солидную бороду, и вкупе с несколько старомодной причёской стал немного похож на русского крестьянина с первых отечественных дагерротипов XIX века. Плешивый дед Иван, лишённый и того, и другого, вспомнив, видимо, советскую экранизацию пушкинской «Капитанской дочки», нашёл, что Володя напоминает Емельяна Пугачёва из этого фильма.
— Эх, грёбаный ты Емеля!.. — поддразнивал он Володю, пародируя сокрушённые мысли Гринёва из романа. — Так и не рассчитался ты с барином за заячий тулупчик! И срубили тебе буйную головушку! Две свечки в руки — и трындец!..
Он знал очень много забытых ныне перлов советского политического фольклора брежневской эпохи. Есть люди, которые умеют рассказывать — всё у них выходит смешно. Дед Иван был из их числа. Сидя на кровати, он вдруг, от нечего делать, начинал с хитроватой улыбкой декламировать:
Суслов, Брежнев и Подгорный
Нажрались втроём отборной...
А наутро с пьяной рожи
Водку сделали дороже!
Водка стала до пяти,
А в кармане — хрен найти!..
Если водка будет пять,
Всё равно мы будем брать!
Если водка будет восемь,
Всё равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу:
Нам и десять по плечу!
Если ж будет двадцать пять,
Будем Зимний брать опять!..
И многое другое. Шпарил без перерыва. Заканчивал чем-нибудь вроде:
...Мясо Кубе продадим,
Есть селёдку будем.
Хрен Вьетнаму отдадим,
И про баб забудем!
Или же насмотрится по телеку советских мультиков и начинает их на идиоматическую лексику перекладывать. Да как!.. Дал же лукавый человеку дар! А нам много ли надо? Хохотали так, что хоть на время, слава богу, забывали о своих недугах. Смех, как и сон — воистину, лучшие из лекарств.
Дед Иван очень любил крепчайший чёрный чай. Пил его как минимум трижды в день. И меня угощал как соседа по кровати. Он вообще ко мне был как-то особенно дружески настроен.
— Ты что, дед Иван, как ты это пьёшь! — удивился я в первый раз, приняв предложенный мне стакан и безуспешно пытаясь разглядеть лампочку сквозь его содержимое. — Это ж чифир!
— Какой это чифир! — махнул рукой старик, с удовольствием прихлёбывая горячий напиток из своего стакана. Продолжал со знанием дела: — Настоящий чифир — это когда вот такой стакан воды и пачка чая. И не запаривают его, а варят! Потом отжимают. Но такого чифира больше двух глотков не сделаешь. Я в тюрьме как-то раз сдуру пять глотков подряд сделал — потом всю ночь на стены лез! Глаза были вот такие!.. Вот это тебе настоящий чифир! А то, что мы пьём — так, почти вода.
Шура Захаров и Юра Бредихин — это был ещё один дуэт юмористов. Случайно ли то, что оба лежали на тех же кроватях, где за год до них почивали Носов и Чагочкин? Случайно, конечно. Но что-то такое те двое оставили на своих местах, наверное, неизвестный ещё науке вирус прикола. У Шуры с Юрой иммунитета против него не оказалось. Даже шутки друг над другом сходились, например, с подкладыванием в постель мухобойки.
У Юры здорово болела спина, и когда Олимпиада Фёдоровна на обходе стала прощупывать ему позвоночник, тот невольно вскрикнул от боли: «Ой-ой!»
— Что, больно, что ли? — подчёркнуто недоверчиво спросила Олимпиада Фёдоровна. — Да ладно!.. Тебя как зовут-то?
— Юра... — Из-за подушки, в которую Юрий уткнулся, это прозвучало еле-еле и как-то жалобно.
— Всё нормально, Юра, ничего не больно! — Олимпиада Фёдоровна продолжала осмотр. Она не видела, как Шура Захаров на своей койке беззвучно трясётся от подавленного смеха.
После ухода врача Шуру прорвало.
— Чо ты ржёшь?.. — спросил Юрий, добавив ещё одно слово в конце.
— «Тебя как зовут?» — артистично воспроизвёл Шура его диалог с врачом. И — голосом умирающего: — «Ю-уура...»
— Пошёл ты!.. — отмахнулся Юрий под общий смех.
— «Ой-ой-ой, мама!» — продолжал своё Шура.
— Ну, погоди, я тебе отомщу! — пообещал Юра.
Нет, никаких обид тут не было. Шутки, напротив, подбадривали всех, в том числе и тех, над кем шутили. Ведь даже от самой маленькой улыбки, как скажет позже клоун Юрий Никулин, в нашем организме дохнет ещё один микроб.
Действительно, взрослые люди здесь порою ребячились — ну, совсем как озорные дети. Одно время была такая хохма: под чьей-ни-будь простынёй пропускали нитку, и, когда человек ложился спать, сосед потихоньку за неё тянул. Знатоки-эмпирики утверждали, что «подопытный» якобы с матерками вскакивал и зажигал свет: ему чудилось, что по постели ползают тараканы. Ничего не обнаружив, он, в конце концов, снова укладывался, но, едва гасили свет, шутник-сосед снова брался за нитку...
Не знаю, я лично никаких «тараканов» не почувствовал, когда Бориска Никитин попробовал раз подшутить так надо мной. Напротив, я сразу смекнул, в чём дело, и лежал как ни в чём не бывало, не подавая вида, что не сплю. Бориску мой «ноль реакции», похоже, раздосадовал. Он тянул за нитку всё ожесточеннее, до тех пор, пока она не оборвалась. Мне бы в этот момент самому поднять его на смех, скажем, внезапно сказать громко и издевательски «ха-ха-ха!». Побоялся других разбудить.
А тараканов, к слову, у нас на «фазенде» не было.
Только один пациент на моей памяти невзлюбил нашу «фазенду» с первого взгляда настолько, что... сбежал оттуда в первый же вечер! Есть такая категория больных. Не ценящих того, что их лечат. Однажды я лежал в областной гастроэнтерологии, у известного врача Я. Д. Витебского. Это, можно сказать, было отделение общесоюзного значения. Иногородние месяцами ждали очереди, чтобы туда попасть. Один старикан, приехавший из Новосибирской области, через три дня попросился на выписку и свалил обратно домой! Не понравилось ему: толку, видите ли, от этой больницы никакого нет. Мужики крутили пальцами у виска: ну, не дурак ли?
Подобному же чудику на «фазенде», наоборот, лет семнадцать было. Городской внучек, «на деревню к дедушке» приехал. Наша крестьянская богадельня ему явно не пришлась по вкусу. Он, кажется, даже не мог поверить, что такие больницы вообще бывают! Поэтому вечером первого же дня, уже по темну, он драпанул из отделения! Хватились его к одиннадцати, перед самым отбоем. Зоя Михайловна здорово перепугалась. Действительно, не шутки! Где его искать сейчас, по ночному посёлку? Не помню точно, но была у нас какая-то косвенная ниточка, ведущая на мою родную улицу Кирова. Поэтому на поиски беглеца двинули в темень я и Зоя Михайловна, оба злые как черти. Ниточка в итоге привела... в мой дом, в одну из соседских квартир! Бабушка и дедушка даже не показали нам нашу пропажу: впечатлительного внука «фазендовские» стены повергли в такое уныние, что у него поднялось давление, он лёг в постель и наотрез отказался возвращаться: «Не отдавайте меня обратно, я там не выдержу»! Ещё один Ваня Жуков... «Дедушка, забери меня отседа...» Парню было почти восемнадцать! Это ж курица обхохочется!
Зато Коля Бородин из Центрального, единственный мой ровесник в «фазендовском» контингенте, старался не падать духом, как бы плохо ему ни приходилось. Он, кажется, лежал в больницах ещё чаще, чем я. Мы с ним попадали в одно время как на «фазенду», так и в областную неврологию. Болен Коля был серьёзно: на полном ходу слетел с мотоцикла и, по его собственным словам, «воткнулся башкой в землю». Травматический арахноидит, гипертензионный синдром и инвалидность с восемнадцати лет. Постоянные головные боли, и наверняка более сильные, чем у меня.
Но он никогда не жаловался на свой недуг. Живейший собеседник — мы с ним могли трещать подолгу и о чём угодно. Коля всё про деревню свою рассказывал. Про случаи из жизни. С юморком, с крепкими словечками. Хотя при этом уже проглядывала в нём взрослая, пока ещё не реализовавшаяся в полной мере, серьёзная, даже степенная рассудительность. Но чаще Коля посмеивался, и над собой в том числе. Хотя ему порой совсем не до смеха бывало. Один раз его привезли в отделение на «скорой» и внесли в палату на носилках. Ему было очень плохо: сильные боли и головокружение до рвоты.
Я не могу смотреть, когда кто-то на моих глазах страдает физически. А я бессилен ему при этом помочь. Кажется, лучше бы уж сам это стерпел, чем видеть, как терпят другие. Но на следующий день Коля, отлежавшись и почувствовав себя лучше, уже улыбался мне с койки во весь рот: «Привет, Евгений!» Такой он и был, Коля Бородин. Ну, бывало, иногда мог матюгнуть в сердцах и жизнь эту, и мотоцикл тот проклятый, и себя, что угораздило его тогда перевернуться. Но никогда я при этом не слышал в его голосе ни отчаяния, ни обиды, ни озлобленности. А через минуту он опять уже рассказывал что-нибудь интересное. Только вот затаенная печаль в его глазах оставалась. Он и сам, наверное, не знал об этом. И порой мне становилось до пронзительности его жаль: он, молодой, полный сил парень, остался инвалидом, и нести это нелегкое бремя был обречён, судя по всему, до конца.
* * *
Жизнь на нашей «фазенде» текла спокойно и размеренно, с поистине деревенской пасторальностью, которую извне ничто не нарушало. Возможно, какие-то внешние ведомственные проверки и бывали, но лично при мне никто нас никогда не беспокоил.
Устав от постоянной лёжки, больные, бывало, порывались что-нибудь сделать «по хозяйству». Мужики помогали дотащить до процедурной привезённый баллон с газом, воду вынести из-под рукомойника, женщины — посуду помыть. Правда, большинство мужиков были «с ломиками» в спинах и физически ничего делать не могли, но не все. Например, когда стали проламываться под ногами уже подгнившие доски деревянных трапов, ведущих от нас на улицу Спортивную, то Шура Захаров, Юра Бредихин и я, недолго думая, перестелили гнилые трапы сами. Во дворе «фазенды» возвышался штабель некромлёных досок, видимо, заготовленных специально для этого. Тут же, в отделении, нашлись где-то ножовка, молоток и ржавые гвозди. За пару часов мы, торжествуя, по доскам обновили путь.
Или питание... Завтрак, обед и ужин нам доставляла из пищеблока районной больницы машина «Скорой помощи». За едой для нас туда ездили наши медсёстры, но, когда им бывало некогда (кто-то лежал под капельницей или что-то ещё), то пищевое довольствие привозили мы сами. Виктор Плюснин, приезжая из отделения и входя в кухню пищеблока, бодро рапортовал поварам:
— Здравствуйте! Я из этого… из «повёрнутого»!.. — И выразительно крутил пальцем у виска. Всё было понятно. Ну, конечно же!.. Хоть наша неврология и без приставки «психо», слова всё равно однокоренные.
Потом, когда Виктора выписали и за едой случалось ездить мне, его «традицию» продолжил я. Выдав поварам такую же ключевую фразу, я с наигранно серьёзным видом добавлял что-нибудь вроде:
— Вы уж как-нибудь поскорее, пожалуйста!.. У нас там, это… голодный бунт назревает. А народ наш, сами знаете... все со справками, за себя не отвечают. Боюсь, больницу не разнесли бы…
Женщины-повара добродушно смеялись и наполняли горячей едой эмалированные вёдра и кастрюли с надписью «Н.О.». Кормили нас, кстати, вкусно. Грех было жаловаться. Причём еда была не «учётная», как в областных больницах. Там ведь как? — сколько больных в отделении числится, столько запеканок и котлет заказывают. А на «фазенду» еду возили, как в деревне на колхозную бригаду: навалят в пищеблоке на всех три ведра: каша, борщ и компот — ешьте, не хочу! Накидают кастрюлю гуляшного мяса — наяривайте, сколько душа запросит! Бывали иногда и излишки, в частности, по выходным, когда многие уезжали домой, и оставшимся приходилось через силу трескать всё самим: ну не выбрасывать же добро! Вот где халява советская была…
Один раз только, перебои что ли какие-то с мясом начались — перестройка тогда уже душила экономику: привезли нам на обед вместо гуляша или котлет… консервы! Кильку в томате. Это было что-то новое в практике. Да ладно, мы народ колхозный, не гордый, и кильку за мясо считаем. Мировой закусон! Вот только проблема: каким, блин, гвоздодёром их открывать? Там, в нашем сарае, кажется, где-то ломик валялся... Однако вскоре у меня, одного во всём отделении, нашёлся консервный ключ. Я полчаса эту кильку для всех распечатывал. Рука отвалилась. Удивил меня попутный нюанс: один дед и одна бабушка из больных воззрились на эту обыкновенную «открывашку» с вращающейся рукояткой и зубчатым колёсиком, как дикарь Пятница на ружьё: они впервые такую видели! Я сначала не поверил. Всё-таки конец ХХ века на дворе. Но оба так сосредоточенно вертели «открывашку» в руках, потом смотрели внимательно, как ловко, без заусенцев, режет она крышки консервных банок. Качали головами: надо же!.. Я не подал вида, что удивился, чтобы не обидеть стариков: понял, что они всю жизнь имели дело лишь с обыкновенным, известным всем консервным ножом «бычья голова», рядом с которым мой ключ в их глазах был сравним с профессиональной отмычкой «мультилок».
После завтрака больные, проставив утренние уколы, не спеша шли на физиолечение. В семи минутах ходьбы от «фазенды» находился ремзаводской здравпункт. Тоже такой по-домашнему уютный, чистенький. И физиоаппаратура там была не хуже, чем в центральной поликлинике. Медсестрой в те годы там работала Галина Петровна Самсонова. Вся «фазенда» «грелась» в этом здравпункте, и амбулаторные больные со всего восточного сектора посёлка тоже ходили туда на прогревание и на уколы. Цивилизация была, однако!
После обеда же «фазенда» затихала. Мужики ещё с полчаса курили во дворике, сидя рядком на скамейке и сыто жмурясь на солнце, как коты. Потом расходились по палатам и умиротворённо отваливались на боковую. Меня же в это время, как правило, клали под капельницу, часа на два-три. Я старался не спать под иглой, чтобы не дёрнуть во сне рукою, поэтому регулярно имел удовольствие наслаждаться всей партитурной гармонией виртуозного мужицкого храпа, как, впрочем, и ночью тоже. На эту тему, если задаться целью, можно было бы написать диссертацию, став, как Карлсон, лучшим в мире специалистом по храпу.
А после ужина начиналась вечерняя жизнь, самая, пожалуй, динамичная в течение суток. И мужики, и женщины смотрели телевизор, чесали языки, рассказывали всякие истории, травили анекдоты. Дежурные медсёстры, которым тоже было вечерами скучно в ординаторской, приходили к нам поболтать. Нина Петровна, случалось, рассказывала о чудиках, которые лежали здесь в те времена, когда тут была наркология.
— Ой, ужас, на кого только не насмотришься, бывало, — говорила она. — Как привезут какого-нибудь запойного, который уже по нескольку месяцев не просыхает... Так привязывать к койке иногда приходилось! Буянили так!.. Ну, что говорить — допивались до того, что себя не помнили, не сознавали просто себя.
— А с некоторыми, — продолжала она, уже смеясь, — так смех и грех! Один сел в кровати, руками вот так крутит, словно у него баранка в руках, и: «Вв-рр-рр!..» Это он на машине едет! А другой лежит, на потолок таращится, и на вот этот гвоздь мне показывает, говорит: «Смотри, смотри! Он плачет!»
— Допился до белочки!.. — усмехнулся Хохряков, мужик из Речного.
— Кто плачет? Гвоздь, что ли? — переспросил я, проследив за её рукой: в потолочной плашке торчал вбитый на четверть гнутый гвоздь.
— Ну да. Говорит, не видишь, что ли, вон, слёзы с него капают?
— Ни фига себе!..
Кто-то оживился:
— А у нас тоже случай был...
Далее пробуждались воспоминания: мужики начинали рассказывать об аналогичных экзотических случаях в своих деревнях. Васька Иванов, наклевавшись белой, в коровнике уснул, Санька Петров вообще потом в другой деревне проснулся. Словом, по разнообразию ситуаций деревенские истории не уступили бы и «Особенностям национальной охоты».
Жизнь в любом стационаре, разумеется, невозможна без игральных карт. Кроме игры в дурака, у нас очень популярна была так называемая игра в «охламона», похожая на подкидного, но требующая не менее четырёх игроков. И мужики, и женщины одинаково её любили, и вечерами собирались за обеденными столами скоротать время за игрой. Только хлопки раздавались! Большим специалистом по игре в «охламона» была пожилая дородная женщина — бабушка Зина. С ней я особенно любил играть.
А вот ещё одна популярная игра — в шестьдесят шесть — оказалась не для моего ума. Как ни пытались мужики растолковать мне её смысл, я так в неё и не врубился. По сей день не умею.
Перед отбоем мы кипятили на плите чайник, коллективно — и мужчины, и женщины — пили чай и подчищали личные припасы. Затем вечерние процедуры — и к одиннадцати вечера наша маленькая община укладывалась спать.
На ночь некоторым пациентам с острыми болями в спине, чтобы они хоть смогли поспать без маеты, делали местную анестезию. Немного необычная была процедура — не помню её названия, тем более что сейчас её уже не применяют. Представьте ампулу толщиной с палец и в двадцать пять сантиметров длиной, напоминающую запаянную с обоих концов пробирку. В ней — анестетик, закачанный внутрь под давлением. Сбоку ампулы — капсюль. Его ломали, и выталкиваемая давлением жидкость, шипя, устремлялась наружу. Анестетик распыляли на больное место, и он тут же, на глазах, впитывался в кожу. Потом на коже выступали мелкие кристаллики, будто иней. Готово, на ночь заморозили мужика! Хоть выспится сегодня по-человечески...
А вставали на «фазенде» обычно рано, особенно летом, всегда опережая солнце: в пять начинали шевелиться, бродить, в шесть шли до ветру, курили и после уже больше не ложились. Деревенская привычка! В деревнях хозяйственные люди всегда встают рано: коров выгнать в стадо, воды натаскать, мелкую скотину накормить, да потом в огород с тяпкой... Некогда дрыхнуть-то до полудня. Вот и в больнице не спится, по привычке.
Но раньше всех на «фазенде» поднималась, всё равно, дежурная сестра. Хлопоча в процедурной, она раскладывала прокипячённые с вечера шприцы, готовя нас к утренним медикаментозным интервенциям.
Однако было в отделении и место, где, напротив, спалось порой до полудня. Одна из палат, на четыре койки, — она вообще не имела окон, ликвидированных после одной из внутренних перепланировок! Я один раз в ней лежал. Светового дня там не существовало, стоило только выключить свет и закрыть двери. Полный мрак и тишина! И спалось там — я вам скажу!.. Сказочные сны видывал!
На выходные, в субботу и воскресенье, практически все пациенты «фазенды» отпрашивались у Олимпиады Фёдоровны по домам — помыться в баньке да на хозяйство глянуть. Может, и руки к чему приложить, если здоровье позволит. Поэтому по выходным «фазенда» пустела, оставалось два-три человека, кто или не мог передвигаться толком, или уколы нельзя было прерывать.
...Многие не забыли ещё, как, помимо дефицита в магазинах самого необходимого, в нашей стране устроили тотальный табачный дефицит. Сейчас-то всем давно ясно, что это было инспирировано специально, для дальнейшего нагнетания напряжённости в обществе. А тогда никто ничего не понял. Табачный коллапс застал меня как раз на «фазенде». Март 1990 года. Сам я практически не курил в ту весну, но ходил по просьбам мужиков в ближайший магазин за сигаретами. Им-то куда идти, с их кривыми спинами и хромыми ногами!.. А мне разминка.
В магазине «Восток» оказались только папиросы. Не понял! «Комета», «Родопи», «Ватра», «Рейс» и прочее — где всё это? Даже эта кислятина — тбилисский «Космос» и годами тупо лежавший на прилавках «Гобустан», который никто не брал... Пусто! Знакомая продавщица развела руками:
— Разобрали всё! Долго почему-то сигарет не завозят. Завезти, поди, должны вот-вот...
Когда я вернулся и предложил мужикам всё-таки купить папирос, те отмахнулись: да ну их на хрен! Вон, дед Воронин их курит, пусть он и покупает. А мы сигарет подождём.
Знали бы они, что ждёт их самих! Уже через неделю от искусственно спровоцированного дефицита взвыли курильщики по всему Союзу нерушимому! «Комсомольская правда», традиционно самая читаемая из советских газет, не нашла ничего лучшего, как додуматься придать ситуации характер гротеска: на передовице очередного номера громадными буквами было набрано: «ЭКСТРЕННЫЙ НОМЕР! ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДАЙ ЗАКУРИТЬ!» Ниже — свободный от текста прямоугольник чистой бумаги, очерченный пунктирной линией отреза, и подробные ЦУ: как надо сворачивать самокрутку. Ещё и через газету поиздевались над людьми попутно...
Шибко мучились мужики без табачка. В первые же выходные обе мужские палаты вымерли: мужики поехали домой не столько в баню, сколько за куревом! Привезли: кто — ещё оставшиеся дома пачки папирос, кто — сто лет как забытую в кладовке махорку, купленную когда-то для огородных протрав. Сигареты теперь стали особым шиком: те, кто раньше признавал только утончённый вкус «Веги», теперь, на безрыбье, смолили «Беломор» и, кашляя и матерясь, пробовали самосад. Некоторые, не желая вдыхать с самокрутками дым жжёных газет, вспомнили про трубки, до сих пор лежавшие дома, как сувениры.
Но курить не бросил никто! Горбачёву ли было отучить народ от водки и табака?.. Это с народным-то опытом жить власти назло!
* * *
Когда я в 1988-м, впервые попал на «фазенду», то сюда, почти каждый день, приходила навестить меня моя тогдашняя юношеская любовь. Уже не полудетская, как двумя годами ранее, а достаточно серьёзная. Назову её Кристиной, а то, если «сдам» её настоящее имя, она мне голову оторвёт, по старой дружбе. Через неделю её уже знало всё отделение — и сёстры, и больные. И она знала всех. Как-то раз она по случаю даже что-то помогала по мелочи, то санитарке, то больным.
— Примелькалась я здесь, — улыбалась Кристина.
Тем мужикам, которые по возрасту ещё что-то понимали в девичьей красоте, Кристина очень нравилась. Тихонов (Тишка), видя нас вместе, всегда улыбался. А «лыба» у него от природы была, как у певца Гарика Сукачёва! И такая же располагающая. По ходу, этот старый чёрт лет пятидесяти улыбался по конкретному адресату, а именно — Кристине. Другой пацан на моём месте, глядишь, и заревновал бы: не фиг запускать глазенапы на молодых девчонок и улыбки раздаривать; дома вон жене улыбайся — небось, последний раз на 8 Марта это делал! Но такая глупая ревность мне и в голову не приходила — напротив, в душе гордился тем, что Кристина у меня такая красивая, что и мужики в годах не могут быть к ней равнодушны. А Кристина, когда Тихонов проходил, у него за спиной тихо прыскала в ладони.
— Ты чего? — спрашивал я.
— Не могу! — тихо шептала она сквозь смех. — У него такая улыбка смешная!
Потом у Кристины уже при одном виде Тихонова губы начинали подрагивать от сдерживаемого смеха, а глаза весело искрились. Тот это замечал, и ему, по ходу, нравилось: ещё шире растягивал свой «забор», когда Кристина с ним здоровалась.
Но особенно горячо одобрял наши отношения Виктор Чагочкин. Хороший же он был мужик! Он всё понимал именно так, как я хотел бы. Он ничего не говорил мне, нет, но у него на лице всё было написано. Когда вечерами я, проводив Кристину, опьянённый счастьем и ласковым майским воздухом, уже по темну возвращался в отделение, его широкая, понимающая и дружеская улыбка говорила лучше всяких слов. Чёрт, мне порой спасибо даже ему хотелось сказать за такое понимание!
Сегодня, через призму стольких лет, я могу уже сказать: это было самое счастливое время моей юности. Да, вот так вот — и самая незабываемая любовь в моей жизни… тоже в больнице! На родной «фазенде».
У боковой стены «фазенды», под окнами моей палаты, было наше с Кристиной любимое местечко для встреч. Мы садились на завалинку, укрытые листвой молодых тополей, и нас почти никто не видел, кроме редких прохожих, проходящих через дворик. Сидели порой до первых звёзд.
Даже в более поздние годы, когда Кристины уже не было со мной, я всё равно приходил в этот маленький укромный уголок, ставший теперь уже только моим. Приходил посидеть, выкурить сигарету, полюбоваться на тёмно-синее вечернее небо и вспыхивающие на нём жёлтые искорки, просто побыть наедине с самим собою. Единственная моя плохонькая фотография с «фазенды» сделана именно здесь.
Отсутствие Кристины на «фазенде» для тех, кто её запомнил, было заметным. Случалось, и спрашивали. Например, Клавдия Иосифовна, ставя мне как-то вечером укол в процедурной, осторожно поинтересовалась:
— Я помню, к тебе летом какая-то девочка всё время сюда приходила. Что-то не вижу я её сейчас.
Я вздрогнул и опустил глаза. Так неожиданно это прозвучало, полоснув по ещё не зажившему...
— Не придёт она больше, — вырвалось у меня. И, кажется, горько вырвалось.
— Поссорились? — огорчилась Клавдия Иосифовна. И сочувственно протянула:
— Ну-у!.. Что же вы так? Такие молодые — и уже ссоритесь. Может, помиритесь ещё?
Что тут ответишь? Я видел её сочувствие и участие, которого мне так не хватало, и был несказанно благодарен ей за это. Но не объяснять же ей всего! Я вынужден был изобразить на лице улыбку a-la c’est la vie и молча развести руками. Мол, всё нормально, в жизни через это проходит почти каждый.
С тех пор минуло уже около тридцати лет. И всё же… Спасибо моей «фазенде». Спасибо тем солнечным годам, счастливым и тогда ещё по-юношески беззаботным.
Спасибо тебе за всё, Кристина!
* * *
Что это была бы за «фазенда», если бы здесь не было своей Изауры, своего дона Леонсио? А как быть без кухарки Жануарии, по-матерински любившей главную героиню сериала?
Они у нас были! Свои, доморощенные, и ещё получше, чем в Бразилии! С такой же «постоянной пропиской» в отделении, как и я. Все деревенские, но я забыл уже, кто откуда...
Володя Симаков, мужик лет под сорок. Мы с ним искренне симпатизировали друг другу, и у нас были классные отношения. Где-то он сейчас, и как его здоровье? Ведь у него были серьёзные проблемы с позвоночником — год спустя начали отказывать ноги, и он стал передвигаться, лишь опираясь на трости. Ещё позже я, встретив его в отделении вновь, к своей радости, уже не увидел в его руках палок: дело пошло на поправку, хотя ходил Владимир ещё медленно.
Нина Светлышева. Она была лет на десять моложе Володи. Такая хорошая, добрая женщина! И такой она была по отношению к каждому. Меня, помню, всегда радостно встречала, когда мы снова вместе попадали в отделение.
Вообще, они — Нина и Володя — были одинаково простыми и душевными людьми. Видно, этой добротой своей они и оказались родственны. Володя и Нина были влюблены, и дружили совершенно открыто, не таясь. Ежедневно многие часы они проводили вместе, буквально не отходя друг от друга. Сидели на скамейке во дворике «фазенды». Или шли гулять по Трудовой или Спортивной... Уходили они надолго, и возвращались часто по темноте, перед самым отбоем, когда дежурная сестра уже собиралась запирать входную дверь изнутри на крючок. А на следующий день снова сидели рядышком на скамейке во дворе. Совсем как мы с Кристиной здесь же когда-то... И счастье в их глазах светилось, как и у нас, только уже более спокойное и зрелое, без юной сумасшедшинки.
Всякий раз, когда я видел их вдвоём, меня это в душе и трогало и радовало одновременно. Они ведь молодые были ещё. И в мыслях я им искренне желал, чтобы они никогда не расстались.
Жаль, что мне здесь пришлось изменить имена и фамилии этих двух хороших людей. Но писать об их личных отношениях под настоящими именами... нельзя, сколько бы лет ни прошло с тех пор.
Именно Володю с Ниной и прозвали на нашей «фазенде» Изаурой и Леонсио. Хотя мужики порой втихаря и посмеивались над обоими, никакой издёвки в этих прозвищах не было. И Володя, и Нина отлично знали о них, совсем не возражали и в ответ только улыбались.
В наше отделение очень часто попадала одна женщина лет пятидесяти, по имени Люба. Медсёстры ласкательно называли её «наша Любаша». У неё была гипертония 2-й степени, однажды её разбил инсульт, от которого она до конца так никогда и не оправилась: необратимо нарушилась речь. Люба была очень полной женщиной, и, возможно, за это, а может, и за её доброе отношение к Нине, она получила прозвище Жануария.
— Ну, конечно же! — смеялась Люба, тогда она ещё говорила хорошо. — Конечно же, я Жануария. Я ведь такая же толстая! Изаура, дочь моя!.. — играя роль, обнимала она Нину, и все вокруг покатывались со смеху.
Эти трое попадали одновременно под крышу «фазенды» не раз, и я во время очередной госпитализации заставал их там как вместе, так и порознь. Я и они были большие друзья.
Люба-Жануария в последние годы была уже сильно больна, да и возраст тоже... Вряд ли она жива сегодня, спустя столько лет. А Нину с Володей после того, как не стало «фазенды», я, к моему величайшему сожалению, никогда больше не встречал. Маловероятно, что эта книга дойдёт до них, но, если это произойдёт, то они, возможно, узнают себя на этих страницах, несмотря на изменённые имена. Мне хотелось бы, чтобы вам, Володя и Нина, мои дорогие друзья, было приятно это прочесть и вспомнить прошлое.
* * *
...Добрым другом всех живущих на «фазенде» был мой коричневый куцехвостый пёс Кузьма Кириллович, с полувисячими ушами и шварценеггеровской мускулатурой. Я изредка отпрашивался на ночёвку домой, а на обратном пути Кузя увязывался за мной. И оставался во дворе «фазенды», не уходил. Иногда лишь отлучался на улицу Трудовую, где скоро перезнакомился со всеми местными собаками. Ночевал под скамейкой либо в нише под стенкой дома. Словом, был при мне вроде «секъюрити».
Мужики, выходя покурить, по-приятельски ласкали Кузьму, а тот снисходительно подпускал их к себе, чего никогда не позволил бы, не будь рядом меня. Он даже терпеливо снёс такую выходку, как попытка деда Николая Прокофьева научить его курить. Он брезгливо выплюнул всунутый ему в пасть тлеющий папиросный окурок и, мотая головой, отошёл в сторону. В иной же обстановке эта вольность обошлась бы деду Коле дорого.
Жрал Кузя на «фазенде» от пуза. Ему волокли все отходы со стола: каши, остатки котлет, куриные кости. Особенно полюбила моего Кузьму санитарка Люба. Она не упускала случая дать ему кусочек повкуснее, просто ласково поговорить с ним. Едва только кончался обед, когда чаще всего и подавали мясное, Люба первой выходила на крыльцо с тарелкой собранных со стола костей и кричала нараспев:
— Ку-узя!
О, тот не заставлял себя ждать! У него, как у любого «секъюрити», было правило: босс боссом, а обед по расписанию! Тут же появлялся из-за угла или из-под дома и, принимая как должное то, что его кормят на халяву, с аппетитом хрустел крупными бройлерскими косточками. А следом уже шли другие больные: не выбрасывать же кости впустую, когда рядом такой «утилизатор». Горка получалась приличная.
Ну, а после такого Лукуллова пира грех не поспать! Набив курсак, Кузьма забирался в свою нишу под домом и задавал храпака до вечера.
Выспавшись за день, ночью Кузя выходил на Трудовую, садился на дорогу перед фасадом больницы и начинал рок-концерт. Кто помнит поющего в машине пса в фильме «Люди в чёрном-2» — вот, это было примерно то же самое. “Who let the dogs out?! Woof, woof, woof, woof!” И пёс-то был похож!
Время от времени Кузькин лай обрывался; минуту спустя я слышал под окном дробный топот: Кузя обходил «фазенду» кругом, утверждая территорию. Затем опять садился посреди дороги и снова поднимал хай. Вскоре окрестные собаки, вторя Кузьме Кирилловичу, тоже начинали драть глотки. Это было чёрт знает что!
Я, уже привыкший дома к этим его фокусам, лежал и думал: скольких мужиков он уже разбудил и скольким не даёт уснуть? И когда у них лопнет терпение, и они пошлют нас обоих — и пса и его хозяина — ко всем чертям?
Но утром мужики как ни в чём не бывало посмеивались и трепали его за уши. Неплохая штука — толерантность и уважение к праву чужого голоса!
...Как-то раз меня определили на госпитализацию не на «фазенду» а в терапевтическое отделение ЦРБ. Здесь «увольнительные» были ограничены, и я был лишён возможности бывать дома. Поэтому сестрёнка, приезжая вместе с отцом навестить меня, всякий раз привозила с собой из дома... кошку. Это я, кошатник хронический, просил её. И больные, проходя мимо нас, разговаривающих на лестничной площадке, с удивлением на меня поглядывали: на плече у меня при этом невозмутимо сидела кошка, причём каждый раз другая: ведь кошек у нас было — четверо!
* * *
Раз уж заговорил о терапии, то, выйдя ненадолго из стен «фазенды», вспомню одного моего соседа по палате в терапевтическом отделении. Это был старик лет семидесяти пяти. К сожалению, не помню ни имени его, ни фамилии. Высушенный годами, с глубоко морщинистым лицом и со скрюченными работой ладонями. Но в его тёмных, не прореженных старостью, волосах не было заметно и признака седины.
Разговорчивый был старик. И простодушный. Из-за этого некоторые мужики немного не принимали его всерьёз. Не насмехались — нет, конечно, — но иногда бывали по отношению к нему несколько ироничны. Мне это было неприятно, так как старик был мне в душе симпатичен. А сам он и не обижался даже. Он целыми днями что-то рассказывал. Как вспомнит какой-ни-будь случай из своей жизни — бла-бла-бла-бла!.. Мы, в конце концов, к этому привыкли. Дедова словоохотливость никого не раздражала, была для нас этаким звуковым «фоном». Я помню, с каким увлечением старик рассказывал нам о том, как ему удалось побывать в Москве... в 1953 году! Он описывал всё, что видел, настолько подробно, в таких деталях, как будто неделю назад приехал оттуда! Видно, настолько сильное впечатление получил в молодости, что это ему на всю жизнь запомнилось. Что они тогда, деревенские работяги послевоенных лет, видели в жизни, кроме трактора и скотного двора? А тут — Москва! Ещё как запомнится!
Кто-то из молодых мужиков, помню, иронически бросил что-то вроде:
— Дед! Да кому сейчас интересно, какая Москва была в пятьдесят третьем!.. Сейчас время совсем другое! Уже девяностый год! И Москва другая.
И снова дед не обиделся.
Я, хоть и был покороблен этими словами, тем не менее, сам должным образом рассказа старика тогда тоже не оценил. Просто слушал от скуки. Эх, как легко мы умеем подчас проходить мимо больших и малых духовных ценностей, не замечая их или досадливо отмахиваясь, если они пытаются достучаться до наших сердец или хотя бы ушей! Случись это всё сейчас!.. Я бы не поленился слова этого деда записать на диктофон, ещё двадцать раз переспросил бы его! Старик ведь рассказывал нам нашу Историю! Где это сейчас можно услышать из первых уст, на втором десятилетии XXI века? Где они сейчас, эти старики, которые могли нам об этом рассказать? И рассказывали! А мы не слышали. Так вот и теряем наше прошлое. Ибо зачастую сами не хотим его знать, занятые более приземлёнными делами и делишками.
* * *
А об этом я поначалу не хотел было упоминать. Потом передумал и всё же решил написать. Лишний раз, может быть, напомнить о том, о чём любой человек забывать не должен и чего должен остерегаться всю жизнь! Ведь одно дело — слушать рассказ Нины Петровны о допившихся до белой горячки алкоголиках, совсем другое — самому видеть, до чего доводит людей водка.
Однажды на «фазенде» к нам в палату внесли на носилках мужика лет тридцати. Он был в коме: инсульт с сильным кровоизлиянием в мозг. Миша его звали, а фамилии никто не знал. Был в отделении кто-то из одной с ним деревни. Он и рассказал нам, что Миша этот, кроме пьянства, ничем больше в жизни не занимался. Разве что учился в юности в СПТУ, о чём подсказывала наколка на его плече. Безобидный, не злой. Но алкоголик конченый — от пьянки-то его и хватила апоплексия. Даже дома своего не было у мужика, и это в деревне-то! Жил в каком-то закутке при скотном дворе. Тогда, в 1989 году, ещё не родилось слово «бомж», а людей не выбрасывали на улицу из квартир за неплатёжеспособность. И потому я, восемнадцатилетний парень, впервые услышав такое, всё глядел на лежавшего навзничь на койке бесчувственного человека и не мог до конца осмыслить: как можно было самому, своими руками, довести себя до такого?
За всё время, пока я находился на госпитализации, Миша так и не пришёл в сознание. Питали его парентерально (вводили через капельницу глюкозу и поливитамины), плюс лекарства... При этом привязывали руки к кровати, чтобы иглу не вырвал. Вскоре у него начала возобновляться двигательная активность — единственные положительные сдвиги.
Встретив позже одного из бывших сопалатников, остававшегося на «фазенде» дольше меня, я спросил его: как там Миша тогда, отошёл? Тот махнул рукой: куда там!.. Всё, нету Миши, закопали... Так и сказал: закопали. Второй раз удар хватил. А ведь начал было в себя приходить! Понимал, что ему говорят, улыбался даже. Только говорить не мог. Стал понемногу есть.
А как-то вечером все смотрели телевизор. Миша, сидя на кровати, тоже смотрел из палаты через дверной проём. Внезапно захрипел... и упал! Зоя Михайловна прибежала из ординаторской на крики мужиков через пятнадцать секунд, но всё уже было кончено.
Вот так прожил жизнь человек... Если это можно назвать жизнью. Ни дома, ни семьи, ни родни. Жил с одной водкой, и убил себя водкой. Зарыли, как собаку какую-нибудь, за казённый счёт... Даже слезу над могилой уронить было некому.
Проще всего сказать о таких, что это не люди, а свиньи. И чаще всего так и говорят. Ну, пусть так, мне нечего возразить. Но всё-таки они... и люди тоже.
* * *
Последний раз я попал на «фазенду» в ноябре 1991 года. К тому времени уже год с лишним как уехала жить в Куртамыш Нина Петровна. Жаль было расстаться с этой, всегда доброй и отзывчивой к больным, медсестрой. Уже не работала и санитарка Люба, вместо неё была совсем мне незнакомая.
Тогда мне довелось ещё раз напоследок полежать вместе с моими друзьями Виктором Чагочкиным и Володей Симаковым.
Напоследок, потому что неврологическому отделению оставалось жить совсем немного.
Да что там отделение... Тогда, по большому счёту, целой стране жить оставалось недолго! Времена наступали такие, что не дай бог ещё раз... Утром 9 декабря, 148 миллионов человек проснулись в другом государстве. Забудьте о своей вчерашней родине, сказали народу при этом. Чем вы жили до сего дня — всё «совковая» ложь, а правда и настоящая история у нас начинаются только теперь! Какие именно? Не вопрос, скоро узнаете... Через месяц по российским просторам асфальтовым катком проехалась либерализация цен. За рулём катка сидел лысоватенький такой, пухлый типчик с маслеными глазками, всё губами причмокивал. Следом уверенной поступью шагал рослый рыжеволосый господин с надменно-выхоленным веснушчатым фэйсом и, подобно сеятелю, разбрасывал по прикатанному полю жёлто-зелёные бумажки. Только это были не ильфо-петровские облигации госзайма, а плачевно всем известные ваучеры. Начинался беспредел лихих девяностых... Всё «переосмысливалось», «переоценивалось», продавалось и предавалось, кралось, ломалось, рушилось, растаскивалось...
А тут какая-то несчастная больница в глухой провинции!..
В условиях «перехода России к рыночной экономике» и здравоохранение вынуждено было съёживаться. Содержать далее «филиал» на Трудовой улице районной больнице стало накладно и с 1992 года, администрация ЦРБ отказалась от дальнейшей аренды принадлежавшего Ремтехпредприятию здания, и неврологическое отделение было ликвидировано.
Ремтеху этот старенький домик тоже оказался не нужен. Не до старых брёвен тогда было. Поэтому до весны бывшая «фазенда» простояла пустой, а ближе к лету здание начали разбирать.
Года через три на этом месте был выстроен большой жилой дом.
Раньше мне, как и всякому, неоднократно доводилось видеть, как сносят старые дома. Не скажу, чтобы это меня совсем не волновало, но я воспринимал происходящее, как само собой разумеющееся. Так и должно быть: старое уходит, не смену ему идёт что-то новое. Но после «фазенды», здание которой ломали на моих глазах, я неожиданно для себя понял, что, когда ломают дом, то при этом ломают целую жизнь. Пусть, может быть, уже завершённую, пройденную до конца, но... жизнь. Ту, которая проходила в стенах этого дома, и которую эти стены помнят. Поэтому с тех пор я не могу спокойно смотреть на то, как разрушают дома. Пятнадцать лет спустя мне довелось пережить разграбление и разрушение поселковой малокоплектной Красной школы, в которой я работал восемь лет. То, что от неё сейчас осталось, до сих пор для меня — одно из самых родных мест в моём посёлке.
Хочу пожелать каждому, чтобы ему никогда и ни при каких обстоятельствах не довелось увидеть в развалинах то, что ему было когда-то дорого.